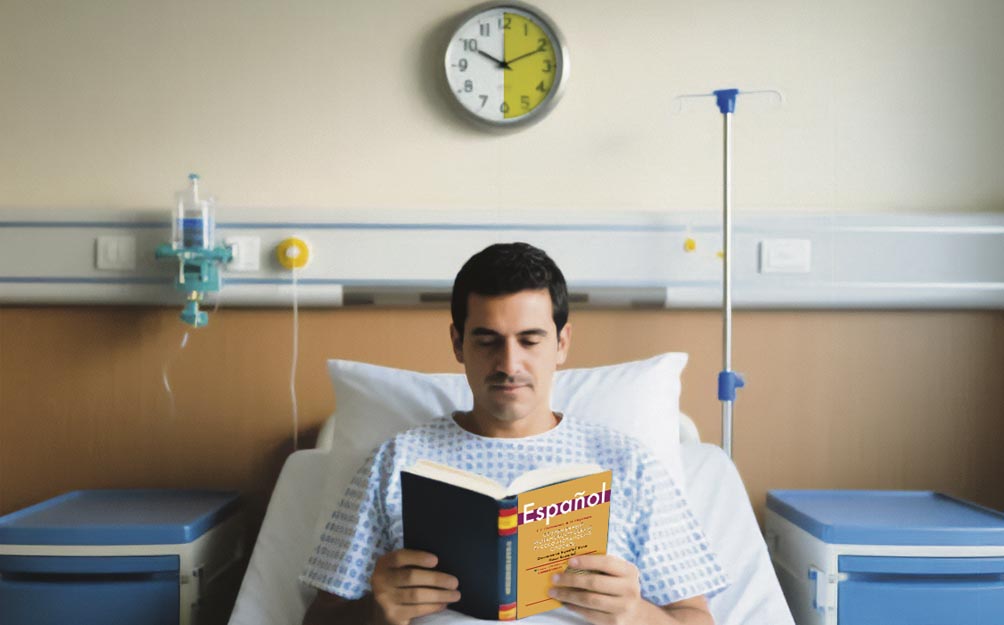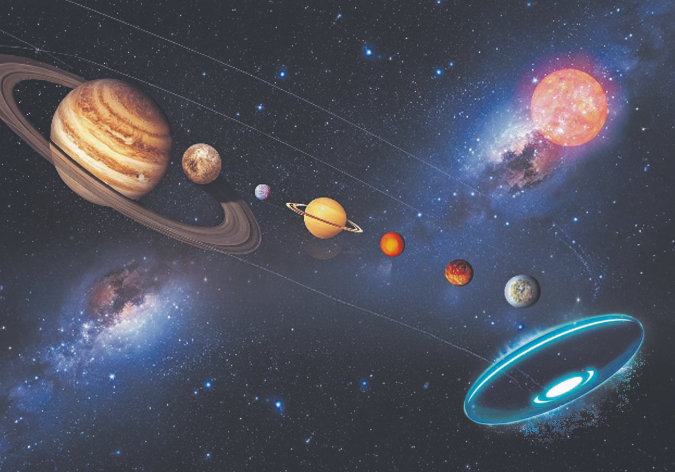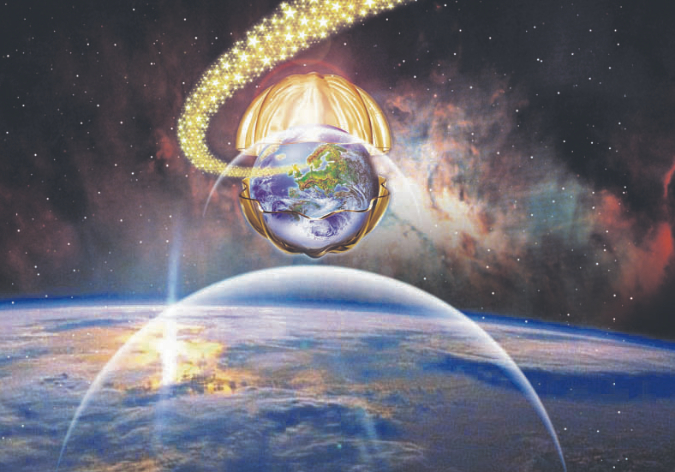Красавица Вера Николаевна Завадовская была единственной любовью блестящего русского офицера времен наполеоновских войн Сергея Никифоровича Марина, известного также как поэта, автора сатирических произведений. Графиня отвечала поэту взаимностью, однако пикантность их отношениям придавало то, что она была замужем. Чтобы избежать сплетен и не вызвать гнев мужа, Марин называл ее «Лилой», а иногда просто «верой» — верою в божество…
ГЕРОЙ АУСТЕРЛИЦА
Своей необычной фамилией наш герой был обязан своим предкам, приехавшим когда-то в Россию из княжества Сан-Марино. Его отец, Никифор Михайлович Марин, был участником Семилетней войны и турецкой кампании 1768 года. Впоследствии он перешел с военной на гражданскую службу, служил воронежским вице-губернатором и новгородским губернатором.
Когда Сергею Марину в 1790 году исполнилось четырнадцать лет, отец, по обычаю того времени, отвез его в Петербург и определил в лейб-гвардии Преображенский полк, в роту своего старинного приятеля, капитана Фёдора Николаевича Петрово-Соловово. Юноша сразу получил чин подпрапорщика, в 1797 году был произведен в портупей-прапорщики. Все бы хорошо, но через месяц он попался на глаза императору Павлу Петровичу. И его личным указанием был разжалован в рядовые за то, что во время парада в присутствии государя сбился с ноги.
Павел I, как известно, был вспыльчивым, но отходчивым. Поэтому вскоре восстановил Сергея Марина в звании прапорщика – после того, как тот отдал ему честь на прусский манер («по-гатчински»).
По иронии судьбы, в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, когда в результате заговора император был убит, именно Сергей Марин возглавлял отряд преображенцев в карауле дворца...
Если кратко, то послужной список Сергея Никифоровича Марина был следующим. В 1805 году он был тяжело ранен в Аустерлицком сражении, награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость». Через два года в звании штабс-капитана и в чине флигель-адъютанта был контужен в бою под Фридландом в Восточной Пруссии, отмечен за храбрость орденом Св. Владимира 4-й степени и золотой медалью «Земскому войску» 1807 года на георгиевской ленте.
За ратные заслуги Сергей Марин был назначен флигель-адъютантом к императору Александру I. После заключения Тильзитского мира Марин был отправлен в Париж, где лично вручил Наполеону депешу от Александра I. В следующем году он был произведен в полковники и прикомандирован к принцу Георгу Ольденбургскому, женатому на сестре Александра I.
Во время Отечественной войны 1812 года Сергей Марин, будучи в чине полковника, «исполнял должность» дежурного генерала во 2-й западной армии, состоявшей под командованием князя Петра Багратиона. Участвовал в Бородинской битве и, наверное, готов был бы принять участие в изгнании Наполеона, но был вынужден подать рапорт «о нездоровье вследствие открывшихся старых ран». Виной всему была злосчастная пуля, которой он был ранен в сражении при Аустерлице еще в 1805 году...
Своим близким друзьям Олениным Марин написал, упоминая себя в третьем лице: «Марин, оставя все походы, // Шеренги, отделенья, взводы, // Желает с вами говорить. // Другим он петь войну // оставит, // Веселья нет // в людей стрелять...».
Сергей Марин получил разрешение вернуться в Петербург для лечения, но справиться с недугом он так и не смог. Последнее письмо своему старому товарищу-преображенцу Михаилу Воронцову, который был ранен в штыковом бою при Бородино, Марин закончил так: «До свидания, друг и командир. Помни и люби Марина». В феврале 1813 года герой нашего рассказа скончался на руках своей возлюбленной Веры Завадовской. Ему было всего тридцать семь лет...
«НА РОДИНУ ХОЧУ И ТЕЛОМ И ДУШОЮ!»
Ордена Святого Владимира 3-й степени, которым Сергея Марина еще в августе 1812 года распорядился наградить князь Багратион, наш герой так и не дождался, причиной тому была волокита военных чиновников. На рапорте Багратиона сохранилась пометка наградного отделения: «По случаю кончины Марина остается без движения». А посмертно тогда не награждали.
Что же касается творческого наследия Сергея Марина, то его произведения пользовались широким успехом среди современников, особенно шуточные оды, басни, песни и романсы, пародии и эпиграммы, дружеские послания и посвящения, мадригалы и экспромты. Они расходились во множестве рукописных списков. Он был завсегдатаем литературных салонов и гостиных, природное остроумие неизменно делало его «душой компании».
В 1808 году Сергей Марин вместе с Державиным, Крыловым, Батюшковым и другими коллегами по поэтическому цеху участвовал в издании первого русского театрального журнала — «Драматического вестника». В нем он напечатал ряд своих сочинений. Переведенная Сергеем Мариным трагедия Вольтера «Меропа» с успехом шла на петербургской сцене. Одним из первых он был принят в созданное в 1811 году литературное общество «Беседа любителей русского слова».
Как отмечают биографы, от столичной суеты и придворно-казарменной службы Сергей Марин отдыхал, когда приезжал к отцу в Воронеж, где также жили его братья и сёстры. «Завтра еду я в отпуск на 28 дней, – сообщал он в письме к Воронцову 10 февраля 1810 года, – посмотреть на старика моего»... В стихотворном письме к штабс-капитану Нечаеву в Воронеж Марин писал: «На родину хочу и телом и душою!».
«ГДЕ ВЕРЫ НЕТ, ТАМ НЕТ БЛАЖЕНСТВА…»
Вера Завадовская была старше Сергея Марина как минимум на семь лет. Они познакомились в Петербурге в первые годы царствования императора Александра I. Тот, вступив на престол, вызвал в Петербург мужа Веры Николаевны – графа Петра Завадовского, после чего тот в 1802 году занял пост министра народного просвещения. В ноябре 1806 года Вера Николаевна была пожалована кавалерственною дамою ордена св. Екатерины меньшего креста.
Вера Завадовская вела обычную светскую жизнь, состоявшую из литературных салонов, балов, домашних спектаклей. Ее сыновья были пожалованы в камер-юнкеры, а старшая дочь София — во фрейлины.
Именно тогда в Веру Николаевну и влюбился Сергей Марин. Для него она стала единственной любовью, которой он не изменил до конца своих дней. Графиня отвечала поэту взаимностью и была его музой. Сергей Марин посвятил возлюбленной такие строки: «Увидев веры совершенство, // Я презрел света суету. // Где веры нет, там нет блаженства, // Без ней смерть жизни предпочту…».
Впрочем, для Веры Завадовской, урожденной графини Апраксиной, это был уже не первый роман. С юных лет на нее засматривались мужчины, и мать, Софья Осиповна, понимала, что имеет возможность максимально выгодно выдать дочь замуж. В начале 1786 года 17-летняя Вера Апраксина была помолвлена с Петром Петровичем Нарышкиным, незадолго перед тем овдовевшим, однако этот брак не состоялся.
Тогда Софья Осиповна решила выдать дочь за 46-летнего графа Петра Васильевича Завадовского. Тот был блестящим государственным деятелем, военачальником. Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов стал управляющим походной «секретной канцелярией». Отличился он и на поле брани: ему было поручено командовать небольшим отрядом, охранявшем берег Днестра. Завадовский несколько раз отражал нападения неприятеля под Бендерами и за отличия был пожалован званием премьер-майора. Вместе с графом Семеном Романовичем Воронцовым он в 1774 году подготовил текст Кючук-Кайнарджийского мирного договора с Османской империей.
Все эти заслуги приблизили Завадовского к императрице, на какое-то время он даже стал ее фаворитом. Судя по всему, царица, действительно, испытывала к нему самые искренние чувства. Об этом свидетельствуют ее сохранившиеся письма, они были опубликованы в 1918 году в «Русском историческом журнале».
В одном из них государыня признавалась: «Петруса, мне оставляешь одной тогда, когда его хочется видит. Петруса, Петруса, прейди ко мне! Сердце мое тебя кличет. Петруса, где ты? Куда ты поехал? Бесценные часы проходят без тебя. Душа мая, Петруса, прейди скорее! Обнимать тебя хочу».
Григорий Потемкин, до этого пользовавшийся безраздельным влияниям на императрицу, был очень встревожен и предпринял все меры, чтобы удалить Завадовского от дворца. Впрочем, тот продолжал хранить верность императрице, а пользуясь поддержкой своего друга графа Александра Андреевича Безбородко, занимал видные посты в государственном управлении...
Таким образом, по всем статьям Петр Васильевич Завадовский был завидным женихом – богатым, умным, обаятельным. Он смог понравиться юной Вере Николаевне, однако сватовство шло туго. Завадовский признавался своему другу дипломату Семену Романовичу Воронцову: «Доброго и столь хорошего поведения девицу нельзя не любить; но это не есть обязательство жениться».
В дело вмешалась сама Екатерина II. Дело пошло к свадьбе, накануне которой Петр Завадовский писал императрице: «Не бывши женихом, явлюсь завтра женатым. Предаюсь неизвестной судьбе, вспомогаемый вашим к тому ободрением. Хотя беру овечку из паршивого стада, но на свой дух надеюсь твердо, что проказа ко мне никак не престанет, наподобие того, как вынутое из грязи и очищенное от оной ничьих рук не марает».
Свадьба состоялась 30 апреля 1787 года в усадьбе Гостилицы под Петербургом (ныне в Ломоносовском районе Ленинградской области). В день свадьбы императрица прислала Завадовскому образ Спасителя, а Вера Николаевна была пожалована во фрейлины.
«О, МОЙ НАДЕЖНЫЙ ДРУГ!..»
Первые шесть лет супруги прожили безоблачно. «...В домашнем моем быту я провождаю последний квартал моего века с удовольствием. Жена по сердцу, детьми утешаюсь», — сообщал граф Завадовский уже упомянутому выше Семену Воронцову.
Увы, жизнь складывалась гораздо сложнее. Дети Веры Николаевны рождались и умирали в малолетстве, в короткое время она похоронила шестерых. Осенью 1793 года за шесть недель у Завадовских умерли сын и старшая дочь Татьяна.
«Я познал, какова радость, какова печаль от детей: пятерых погреб; одна дочь 6-ти месяцев остается, которая не ободрение, а более трепет сердцу наводит. Толико я несчастный отец! Хоть живу, но как громом пораженный; сам не чувствую своей жизни...», — сокрушался Завадовский.
Мучилась и Вера Завадовская. Кроме смерти детей, ее очень тяготила деревенская жизнь в имении. «Никогда в жизни, я не чувствовала себя более одинокой, и мне было бы трудно привыкнуть к такого рода жизни, не имея даже подруги при себе. Я делаю все, что могу, чтобы казаться веселой при муже, чтоб его не раздражать, но не знаю, долго ли я это вынесу», — признавалась Вера Николаевна.
В свете стали судачить, что у нее появился поклонник, будто бы это князь Иван Иванович Барятинский. Отношения в семье, действительно, стали напряженными, однако до открытого разрыва дело не доходило.
Граф Семен Романович Воронцов оставил о Вере Николаевне Завадовской весьма нелицеприятные строки: «Я был бы рад, чтобы мой сын остановился у графа Завадовского, если бы, к несчастию, мой друг не был женат на совершенно распущенной женщине. Молодость имеет много прелести для такой особы: она способна была бы его обольстить»...
Тем временем годы брали свое, Петр Васильевич Завадовский стал часто хворать. Он умер в Петербурге 10 января 1812 года. Казалось бы, теперь Вера Николаевна была свободна, можно было, наконец, жить по любви. Но Сергей Марин, который буквально боготворил свою возлюбленную, скончался в феврале 1813 года. Графиня Завадовская взяла на себя все хлопоты по его захоронению, причем делала это втайне, дабы не вызвать лишних слухов в обществе.
Сергей Марин был похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. На постаменте надгробия были высечены слова: «О, мой надежный друг! // Расстались мы с тобой, // И скрылись от меня // И счастье и покой. // Могла ль бы осушить мои печальны вежды, // Когда во вере я святой // Не зрела сладостной надежды, // Что в вечности опять увижуся с тобой».
Говорят, что автором этой эпитафии была сама Вера Николаевна Завадовская, но она никогда не признавала эти строки своими. После смерти Сергея Марина она прожила еще очень долгую жизнь. Скончалась 22 ноября 1845 года в Нарве и была похоронена в селе Межники Порховского уезда Псковской губернии.